 Доля активов всей банковской системы России, возврат которых не гарантирован, плюс кредиты, погашающиеся с просрочкой, достигли 20-24%, или 11 триллионов рублей, подсчитало в июне международное рейтинговое агентство S&P из большой тройки. Этот невиданный в мировой практике факт заставил экспертов говорить о том, что череда банкротства банков не иссякнет как минимум года два-три. Но почему без серьезных внешних потрясений систему продолжает лихорадить?
Доля активов всей банковской системы России, возврат которых не гарантирован, плюс кредиты, погашающиеся с просрочкой, достигли 20-24%, или 11 триллионов рублей, подсчитало в июне международное рейтинговое агентство S&P из большой тройки. Этот невиданный в мировой практике факт заставил экспертов говорить о том, что череда банкротства банков не иссякнет как минимум года два-три. Но почему без серьезных внешних потрясений систему продолжает лихорадить?
Вот мнение Владимира Татарчука, главного управляющего директора компании Proxima Capital Grouр, который почти 20 лет проработал в банковском секторе:
– У нас часто хорошим считают того банкира, кто в ущерб интересам своей организации и физлиц, доверивших ему деньги, позволяет заемщику, несмотря на системные проблемы его бизнеса, еще долго существовать, вводя в заблуждение и кредиторов, и рынок. Есть и такие примеры, когда кредиты реструктурируются до 40 лет. Представляете, что значит такой срок в нашей реальности?
По мнению Татарчука, масштаб нынешних проблем таков, что для оценки «плохих» долгов в частных банках их официальный объем нужно умножить на два, а в государственных – даже на 3–4.
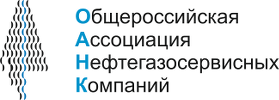

 «Получив от государства за гроши современные предприятия, передовые технологии и научную базу, бизнес должен честно делиться с ним частью дохода».
«Получив от государства за гроши современные предприятия, передовые технологии и научную базу, бизнес должен честно делиться с ним частью дохода». Российская банковская система находится в «стабильном» состоянии, заявила в конце октября ушедшего года на встрече с президентом Путиным глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Но лицо этой стабильности странное: за три года 300 банков рухнули и лишились лицензий, а на поддержку остальных государству пришлось потратить 3,2 триллиона рублей. Поэтому у аналитиков, взвешивающих факты, с одной стороны, и выводы главы регулятора, с другой, язык не поворачивается называть ситуацию в финансовой сфере стабильной.
Российская банковская система находится в «стабильном» состоянии, заявила в конце октября ушедшего года на встрече с президентом Путиным глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Но лицо этой стабильности странное: за три года 300 банков рухнули и лишились лицензий, а на поддержку остальных государству пришлось потратить 3,2 триллиона рублей. Поэтому у аналитиков, взвешивающих факты, с одной стороны, и выводы главы регулятора, с другой, язык не поворачивается называть ситуацию в финансовой сфере стабильной.  Мы продаём в КНР нефть и газ. А могли бы ещё строить дороги, собирать автомобили, приглашать туристов играть в казино и получать дешёвые кредиты. Увы, наши чиновники никак не поймут - там вовсе не Европа, а экзотическая Азия.
Мы продаём в КНР нефть и газ. А могли бы ещё строить дороги, собирать автомобили, приглашать туристов играть в казино и получать дешёвые кредиты. Увы, наши чиновники никак не поймут - там вовсе не Европа, а экзотическая Азия. СУБЪЕКТИВНО
СУБЪЕКТИВНО 